Моя кинология, или Где зарыта собака?
Странная метафора и пересказ «своими словами»
Когда из шкафов немецких «Зеленых», намеревающихся заполучить пост федерального канцлера на предстоящих выборах в бундестаг, стали вываливаться скелеты, рейтинг партии начал падать. Уличенная СМИ в сокрытии доходов, анкетной лжи и плагиате, председательница партии на все отвечала с поразительной беспардонностью: – Не задекларировала 25 тысяч евро? Недосмотр и только, да и сумма-то пустяковая! – Цитировала для своей книги без кавычек и ссылок? Так это же не научный труд!
Поначалу партия подыскивала оправдания. Но только поначалу. И вот что об этом можно было прочесть в недавней газетной статье:
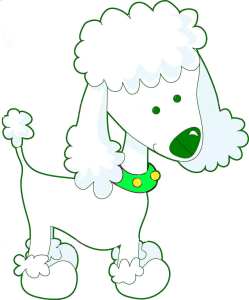 För medan De gröna började med ursäkter och korrigeringar har de nu bytt skepnad från pudel till pitbullterrier. Medierna ägnar sig åt smutskastning, de politiska motståndarna åt trumpistiska fejknyheter. Och ”kampanjer”, som om politik handlade om något annat. [курсив мой – Е.Р.]
För medan De gröna började med ursäkter och korrigeringar har de nu bytt skepnad från pudel till pitbullterrier. Medierna ägnar sig åt smutskastning, de politiska motståndarna åt trumpistiska fejknyheter. Och ”kampanjer”, som om politik handlade om något annat. [курсив мой – Е.Р.]
Разумеется, перефразируя этот пассаж «простой прозой», чтобы тем самым лучше добраться до его смысла, переводчик поймет – в общих чертах – о чем тут речь: ’Сперва «Зеленые» пытались загладить нестрогое обращение своего лидера с истиной, но потом перешли к тактике «лучшая защита – это нападение»: к обвинениям в очернительстве в адрес СМИ и в трампистском вранье – в адрес своих политических противников, якобы оркеструющих против партии злостные кампании.’
Это, однако, еще не решает в полной мере задачи перевода.
Конечно, практическая потребность в переводе на русский язык статьи из шведской газеты о предвыборной ситуации в Германии едва ли может возникнуть. Впрочем, читатель может представить, что это цитата из политического триллера какого-нибудь шведского Ле Карре от издательства «Жесть». Но с принципиальной точки зрения – если смотреть на текст глазами переводчика, чей профессиональный рефлекс заставляет его мысленно отмечать все, обо что он мог бы споткнуться при переводе, – приводимый пример заслуживает внимания. В нем содержится «трудность» такого рода, какие сплошь и рядом встречаются в реально переводимых текстах и требуют для своего разрешения не применения технических приемов, а владения техникой понимания.
Автор статьи навешал «Зеленым» собак, но переводчика, даже и опытного, этот оборот речи может озадачить: что за причудливая зоометафорика? откуда? Вот это «откуда» и представляет интерес с точки зрения переводчика. Экспликация, подобная приведенной выше, позволит ему «вычислить» значение этих метафор: исходная, оправдательная позиция партии «Зеленых» и ее нынешняя, нахрапистая, соотносятся с поведением собак разных пород: была ласковая собака, а стала агрессивная.
Однако передать этот фрагмент «близко к тексту» – * [партия] превратилась из пуделя в бультерьера – переводчик не сможет. Хотя представления адресата русского перевода о характере этих собак едва ли отличаются от представлений шведа, а сам по себе дословный перевод в данном случае не приводит к насилию над русским синтаксисом, такой оборот не может не вызвать у русскоязычного читателя некоторого стилистического отторжения своей вычурностью: это же фрагмент из газетной статьи, а не из речи шекспировского персонажа. По-русски такая метафоризация выглядела бы неестественной и нарочитой. Но раз она не режет слух автору исходного текста и его редактору, то переводчик может заключить, что у шведов есть такой фразеологизм. И ошибется: отыскать такое или близкое к нему выражение в других текстах ему не удастся. Вместе с тем, очевидно, что это и не сугубо авторская прихоть: какой-то прецедентный текст по-видимому существует.
Распознать аллюзию
Переводчик не может не почувствовать, что за этим словоупотреблением что-то скрывается, что автор статьи обращается к «своему» читателю с расчетом на узнавание им какого-то подтекста. Какого? Как эта аллюзия обогащает, хотя и неявно, смысл всего фрагмента? Ибо это выражение как бы заключено в невидимые кавычки и потому помимо своего прямого значения нагружено всеми прагматическими смыслами, связанными с ним в породившем его ситуативном контексте. И как сохранить в переводе внутреннюю форму исходного шведского выражения, а с тем и его образную силу, чтобы текст перевода не получился плоским и бесцветным?
В самом деле, в шведском языке есть известный и понятный едва ли не каждому носителю языка фразеологизм att göra en pudel. Переводчику же он может и не быть знаком, его может не оказаться в его ментальном тезаурусе. Но это полбеды. Беда в том, что он может не распознать, что именно к нему отсылает это выражение – аллюзия, переиначенная идиома, и его не следует принимать за свободное авторское словосочетание. Если же это осознано, то отыскание «претекста» не представляет особой трудности – это всего лишь техническая задача.
Применительно к аллюзиям такого рода переводчику обычно рекомендуют набираться эрудиции, сделить за ходом событий в стране переводимого языка, изучать ее культуру, литературу, сленг, детский фольклор, читать ее СМИ, смотреть кино и вообще проявлять страноведческую любознательность. – Ну кто бы с этим спорил!? Но ведь это лишь благие пожелания, а не конструктивная стратегия. Чтó переводчику делать в конкретном случае, когда текст содержит фразеологизм, «притворяющийся» свободным словосочетанием? скрытую цитату? аллюзию? специфическую конструкцию, являющуюся по существу грамматической идиомой? Принципиально важно не то, что переводчик чего-то заведомо не знает, – нельзя же в самом деле объять необъятное, – а то, кáк именно он узнаёт в данном выражении неявную цитату, интертекстуальную отсылку, игру с чем-то общеизвестным в данной лингвокультуре и т.п., и чтó ему делать с этим выражением, когда оно распознано в этом своем качестве?
В моем первом посте, «предисловии к блогу», заявлен ряд аспектов переводческой проблематики, которые могут оказаться предметом моих несистематических заметок. Распознавание идиом, аллюзий, цитат, ложных друзей, реалий всякого рода, понимаемое как широкая типологическая категория, – это один из таких аспектов, и весьма важный. Как же переводчик распознаёт, что перед ним отсылка к чему-то вне этого текста, при том, что его эрудиция на это «нечто» не отзывается? Прежде всего, по тому, что перевод «близко к тексту» оказывается бессмысленным или, по меньшей мере, неестественным, как мы уже видели при разборе нашего примера. «Пудель, обернувшийся бультерьером» прямо указывает на идиоматичность или аллюзивность данного выражения.
Существуют, разумеется, и другие индикаторы, побуждающие переводчика предположить, или хотя бы заподозрить, аллюзивность встреченного выражения. 1).
Например, таким индикатором может быть неприемлемая реализация метафоры, как та, что ощутима в нашем примере. Это может быть интонационный рисунок, указывающий, что это «чужое слово», а не голос самого автора. Так, второе и третье предложения приведенного отрывка – это несобственно-прямая речь. Синтаксически это не отмечено, и это тоже маленькая задача на распознавание. В данном случае они не могут быть прочитаны как авторские высказывания, так как при таком прочтении нарушается связность текста.
Отыскать источник и выявить прагматику исходной ситуации
Итак, аллюзия распознана. Теперь нужно отыскать, на что именно она обращена, найти «претекст». Это, как я уже сказал, дело техники, хотя в данном случае поиск осложнен. Мы видели, что «заподозренное» в аллюзивности выражение не удается отыскать в других текстах ни в этом, ни даже в похожем виде, но что оно в то же время не является сугубо авторским. А это значит, что исходная идиома переиначена, обыграна, и поиск необходимо вести по смысловой доминанте. Она обозначена словом pudel, метафорически ассоциируя с этой породой определенную модель поведения. Идиоматика пуделя представлена в SO, толковом словаре шведского языка, в частности, и искомый фразеологизм: xxx
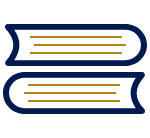 göra en pudel be om ursäkt vanligen inför publik och på ett något förödmjukande sätt: han gjorde en pudel och medgav att anklagelserna om skattefusk var riktiga [’он покаялся и признал, что обвинения в налоговой недобросовестности справедливы’]
göra en pudel be om ursäkt vanligen inför publik och på ett något förödmjukande sätt: han gjorde en pudel och medgav att anklagelserna om skattefusk var riktiga [’он покаялся и признал, что обвинения в налоговой недобросовестности справедливы’]
Дальнейший поиск легко обнаружит, что это выражение появилось и быстро стало мемом сравнительно недавно; ему нет и двадцати лет. Им один из шведских экспертов по публичной коммуникации охарактеризовал поведение тогдашнего министра иностранной помощи, уличенного в получении двойного жалования. «Этимологию» этой метафоры ее автор объяснил так: ”Vi har fyra pudlar i vårt hem och när jag skäller på dem så lägger de sig på rygg och sprattlar med benen, liksom för att säga: men jaaaaag har väl inte gjort någonting?” (’У нас дома четыре пуделя, и когда я их укоряю, они ложатся на спину и перебирают лапами, как бы говоря: «Но я же ни-и-и-ичего такого не сделал».’) Знание контекста, в котором возник этот мем, помогает переводчику лучше понять интенцию автора статьи, даже если это знание непосредственно в переводе не эксплицируется.
Идиоматически воспроизвести смысл
Наконец, мы можем подступиться к переводу этого фрагмента. В «большом» шведско- русском словаре выражения att göra en pudel нет 2) , но вопрос решается переводчиком, исходя из выявленного им смысла. Для него нужно  подыскать фразеологически полноценное русское выражение. Провинившегося пуделя у нас нет, но есть устойчивое выражение провинившийся пес, а бультерьер в данном контексте – это, конечно, злая собака (ср. выражение злой как собака). Оба выражения идиоматичны, достаточно компактны и вполне пригодны для перевода.
подыскать фразеологически полноценное русское выражение. Провинившегося пуделя у нас нет, но есть устойчивое выражение провинившийся пес, а бультерьер в данном контексте – это, конечно, злая собака (ср. выражение злой как собака). Оба выражения идиоматичны, достаточно компактны и вполне пригодны для перевода.
Что касается продолжения отрывка, то несобственно-прямую речь в переводе можно маркировать, просто-напросто заменив точку в конце первого предложения двоеточием, либо путем прямого указания на говорящего: Они [«Зеленые»] обвиняют прессу и т.д.
Во всем этом меня интересуют не перипетии немецкой внутренней политики, а развитие фразеологизма. По-видимому, он так быстро укоренился и стал широко употребителен потому, что отлично характеризует класс ситуаций, для которых до этого не было емкого образного названия, но которое было востребовано языковым коллективом в условиях того, что шведы называют politikerförakt – массовое презрительное отношение к политикам. Он настолько укоренен, что может обыгрываться говорящим, служа адресату-носителю языка легко узнаваемым претекстом, даже если он метонимически сокращен (просто pudel вместо полного выражения) или если вместо него употреблен появившийся вслед за ним глагол pudla. Изначальная метафора ДЕМОНСТРАТИВНО И УНИЖЕННО КАЯТЬСЯ – ЗНАЧИТ ВЕСТИ СЕБЯ КАК ПРОВИНИВШИЙСЯ ПЕС в нашем примере как раз травестирована, и в этом виде приобретает смысл ОГРЫЗАТЬСЯ НА СПРАВЕДЛИВЫЕ ОБВИНЕНИЯ – ЗНАЧИТ ВЕСТИ СЕБЯ КАК АГРЕССИВНАЯ СОБАКА.
Однако, задержавшись на этом хлестком публицистическом словоупотреблении, я пришел к заключению, что не вполне точно сформулировал концептуальное содержание исходного фразеологизма в своем словаре Samhällsordbok. В предложенной мною экспликации есть важное упущение, которое как раз и обнаружилось в этом контексте. Я говорю об элементе ложной театральности в действиях субъекта, о дурном лицедействе, напоминающем чеховское «А ну-ка, Пава, изобрази!». Речь, следовательно, идет не об искреннем раскаянии и не о мотивированном озлоблении, а о наигранном. Во всяком случае, до известной степени. Если посетители моего сайта не предложат убедительных аргументов против этого толкования, то я обязательно уточню формулу концепта в следующем издании словаря.
___________________________
1) Подробнее об этом см. в моих пособиях «Переводи не слова, а смысл» и «12 этюдов о переводе» (удобнее всего, по термину распознавание в гипертекстовым предметном указателе).
2) На поверку он едва тянет на средний: в нем не более 45 тысяч словарных статей. В поисках русского соответствия читатель может заглянуть в дополнения к моему словарю ”Svensk-rysk Samhähällsordbok” на сайте www.lexmaker.eu: att göra en pudel ‹полит.› повести себя как провинившийся пес; публично покаяться (с оттенком самоуничижения). • Han vägrade att göra en pudel och stod fast vid sin ståndpunkt att han inte gjort något fel. – Он отказался бить себя в грудь и каяться и твердо стоял на том, что не совершил ничего предосудительного.
