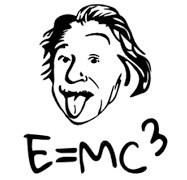
В статьях этой серии я стремился показать, что ни одно слово чужого языка не является истинным другом переводчика. Даже если и формы и концепты слов – своего и чужого – сходны до полного неразличения, их словарное тождество никогда не бывает полным. Каждое слово погружено в экосистему своего языка, связано бесчисленными нитями с другими лексическими единицами, сходными и противоположными по смыслу, со множеством готовых речевых фрагментов, соотносится со всевозможными ассоциациями, вступает в различные, только этому языку присущие, сочетания, имеет специфические грамматические привычки и интонационные предпочтения — и сложнейшее переплетение этих связей никогда не может быть таким же, как в другом языке.
Полное тождество невозможно даже между интернационализмами, имеющими общее происхождение и одно и то же значение, такими как revolution или rekord. Словарь тут безоговорочно предлагает однозначные соответствия. Но даже такие слова отличаются по способу вхождения в экосистему языка. Шведское существительное rekord, например, может быть дополнением при глаголах slå, sätta, överträffa; förbättra и ряде др., не отличаясь в этом смысле от русского рекорд, который тоже можно побить, установить, превзойти, улучшить – буквально «теми же» словами. Но даже в этой паре есть отличия в сочетаемости. Например, по-шведски можно tangera rekord, – буквально что-то вроде ’прикоснуться к рекорду’, как бы ’пройти по касательной к рекорду’, – но по-русски так не скажешь. Словарь предлагает повторить рекорд, но это одна их тех концептуальных неточностей, о которых я не устаю говорить. Tangera в этом выражении – это не просто ’повторить’, а, так сказать, ’приблизившись, воспроизвести’, может быть, с перспективой превзойти. Putsa rekord тоже возможное в шведском языке выражение, но русский rekord в сочетание с глаголом подчистить не входит. Rekord lyder på + численный показатель (букв. ’рекорд гласит на …’) – это конструкция, невозможная для рекорд’а в русском языке. Sänka rekord широко употребительно по-шведски в значении ’улучшить прежний рекордный показатель на к.-л. величину’, чего опять-таки нет по-русски: снизить/сократить/уменьшить рекорд имело бы скорее обратный смысл. Нужно сказать буквально улучшить рекордный показатель на … или просто улучшить (свой, шведский, мировой) рекорд 1).
Слова этого рода – это ближайшее в чужом языке к тому, что можно было бы назвать друзьями переводчика. Но даже и такая дружба несовершенна: все «нестыковки» между языками, подобные перечисленным выше, переводчику приходится, конечно, учитывать, хотя словари их не отражают.
На другом полюсе – так называемая безэквивалентная лексика, под которой обычно понимаются реалии, т.е. слова, обозначающие предметы и явления, не имеющие соответствия в своей культуре. Типа fika, fredagsmys, lutfisk, jantelagen или Gävlebocken. Само собой разумеется, что у таких слов нет эквивалентов в русском языке, если только они не заимствованы «как есть», и по этой причине они тоже не являются друзьями переводчика.
Способам передачи реалий посвящена обширная литература, но если говорить всерьез, то это – абсолютно тривиальный случай полного отсутствия соответствующего концепта в языке перевода, и останавливаться на нем я не буду. Скажу только, что понятие «безэквивалентная лексика» точно так же вводит в заблуждение, как и понятие «ложные друзья переводчика», подразумевая, что вся прочая лесика иностранного языка – «эквивалентная». Это иллюзия, развеять которую я и пытаюсь в этой серии статей. Эквивалентность возможна только на уровне частных значений, да и то не без прагматического диссонанса, пусть и пренебрежимо малого. И ее практически никогда не бывает на уровне концепта, идеи слова. Так, шведский bord не равен русскому стол’у: они отличны по своей внутренней форме, и их концепты порождают ряд несходных значений. Простое и понятное русское прилагательное условный едва ли не во всех значениях, кроме того, которое реализуется в выражениях типа villkorlig straff ’условное наказание’, невозможно сколько-нибудь удовлетворительно перевести на шведский. Непереводимы обыкновеннейшие русские глаголы лить и лезть. И наоборот, такие, например, регулярно встречающиеся шведские прилагательные как spännande и kränkande лишь с трудом передаются по-русски. Русское существительное дом совпадает со шведским hus в значениях ’здание’ и ( до некоторой степени) ‘династия’ (дом Романовых; ср. kungahuset, Vasahuset, huset Bernadott), но у шведского слова нет значения ’домашний очаг’, а у русского отсутствует значение ‘зрелищное помещение’: spela för fulla hus и т.п.).
Именно поэтому – в силу того, что никакое слово иностранного языка не тождественно по своему существу (идее, концепту, по своему, если угодно, «замыслу») какому-либо слову своего собственного – в нем, чужом языке, не бывает истинных друзей.
Справедливости ради надо отметить, что существуют и куда более интересные определения понятия «безэквивалентной лексики». Так, в известной книге В.Н. Комиссарова по теории перевода читаем: «Безэквивалентная лексика – лексические единицы ИЯ, не имеющие регулярных (словарных) соответствий в ПЯ» 2). Тем самым в это понятие включаются такие слова, обозначающие не культурно-специфические реалии или явления, а лингвоспецифические концепты, типа шведского lagom или русского авось. И такие «неожиданности», как даль и безлюдье. Все это – обычные слова в своем языке, но оказывающиеся лексической экзотикой при переводе. Сюда же следовало бы добавить и менее тривиальные случаи – слова, лишенные какой-либо культурной или национальной специфики, но не имеющие в русском языке «регулярных словарных соответствий». Например, mingel, о котором подробно говорилось в предыдущей статье.
Такое расширение рассматриваемого понятия – несомненно, шаг в верном направлении, т.е. в направлении признания всей чужой лексики «безэквивалентной», а двуязычного словаря – словарем ложных друзей переводчика, плохо справляющимся со своей задачей.
Словарь – кривое зеркало. Он ничего не говорит нам о сущности слова, а лишь предлагает т.н. «эквиваленты» – варианты перевода, мыслимые в той или иной ситуации. Исчерпать их, разумеется,  невозможно. Приведу пример, по существу – первый попавшийся. В «Дополнениях к словарю», анализируя конструкцию с allt в функции вводного слова, я среди ряда примеров привел и такой: Det vore allt roligt. – Это в самом деле было бы замечательно. Но почему не весело? Или забавно? Увлекательно. Интересно. Приятно. Здорово … – перечень «значений», который можно продолжать в дурную бесконечность. И почти все они (и еще некоторые другие) содержатся в шведско-русском словаре в статье прилагательного rolig. Чтó все это значит? Да только то, что никаких таких значений у слова roligt нет: они принадлежат не слову, а говорящему, и порождаются им применительно к «оговариваемой» ситуации. И что у roligt нет концептуально близкого эквивалента в русском языке – и это абсолютно заурядное положение дел, такое, когда перед нами самое обыкновенное слово, значение которого нам кажется очевидным и которое нам и в голову не придет отнести к разряду безэквивалентной лексики. А между тем это массовый случай, и бóльшая часть лексикона располагается именно на этом участке между двумя названными выше полюсами. Это значит также, что концепт ’ROLIGT’ словарем не улавливается, и что переводчик вынужден реконструировать его сам по тем «индикациям» 3), которые представляют собой словарные значения, с этим концептом не соотносимые и потому часто не связанные и между собой. И уже по результатам этой «реконструкции» переводить в зависимости от прагматики описываемой ситуации, делая выбор из числа самых разных наречий, в значении которых содержится компонент ’хорошее ощущение’: тех, что я перечислил выше, и собственно хорошо. И, конечно, не только наречий
невозможно. Приведу пример, по существу – первый попавшийся. В «Дополнениях к словарю», анализируя конструкцию с allt в функции вводного слова, я среди ряда примеров привел и такой: Det vore allt roligt. – Это в самом деле было бы замечательно. Но почему не весело? Или забавно? Увлекательно. Интересно. Приятно. Здорово … – перечень «значений», который можно продолжать в дурную бесконечность. И почти все они (и еще некоторые другие) содержатся в шведско-русском словаре в статье прилагательного rolig. Чтó все это значит? Да только то, что никаких таких значений у слова roligt нет: они принадлежат не слову, а говорящему, и порождаются им применительно к «оговариваемой» ситуации. И что у roligt нет концептуально близкого эквивалента в русском языке – и это абсолютно заурядное положение дел, такое, когда перед нами самое обыкновенное слово, значение которого нам кажется очевидным и которое нам и в голову не придет отнести к разряду безэквивалентной лексики. А между тем это массовый случай, и бóльшая часть лексикона располагается именно на этом участке между двумя названными выше полюсами. Это значит также, что концепт ’ROLIGT’ словарем не улавливается, и что переводчик вынужден реконструировать его сам по тем «индикациям» 3), которые представляют собой словарные значения, с этим концептом не соотносимые и потому часто не связанные и между собой. И уже по результатам этой «реконструкции» переводить в зависимости от прагматики описываемой ситуации, делая выбор из числа самых разных наречий, в значении которых содержится компонент ’хорошее ощущение’: тех, что я перечислил выше, и собственно хорошо. И, конечно, не только наречий
До тех пор, пока употребление слова не приходит в противоречие с его концептом, оно может быть отнесено к самым разным «по жизни» ситуациям. И именно употребления, относящиеся к наиболее типичным и часто воспроизводимым ситуациям, узакониваются языковым коллективом (конвенционализируются), становятся «значениями» и фиксируются в словаре. Но это лишь некоторые прагматически обусловленные реализации концепта, «эквиваленты», зачастую непригодные для подстановки в текст перевода. В переводе же могут потребоваться совершенно иные лексико-грамматические средства, выбираемые – повторю это еще раз – в зависимости от прагматики переводимого высказывания и, конечно, с учетом лексической и синтаксической сочетаемости варианта, отвечающего порождаемому смыслу высказывания, и вовсе не обязательно из набора фиксированных словарных значений. Последние то и дело оказываются «неудобоподставимыми» из-за их ощутимой смысловой неточности в данном контексте, из-за того, что их никак не впишешь в перевод по причине неподходящей сочетаемости, из-за невозможности употребить предлагаемый «эквивалент» без объяснительного восполнения – а то и все это вместе. Эти «эквиваленты» – это только семантические намеки, и по ним, и может быть еще по включенным в словарь примерам и пометам, пользователь вынужден сам догадываться о «настоящей природе иностранного слова» 4).
Вот почему для того, чтобы «схватить» идею чужого слова, получить интуитивно удовлетворительное представление о нем, так сказать, присвоить его, нужно обращаться к словарям толковым. Переводчику со шведского в этом смысле повезло: большой толковый словарь шведского языка, составленный лексикографами Гетеборгского университета, последовательно стремится определять «слово как таковое», избегая дробления на значения. Впрочем, это далеко не всегда удается: традиции объективистской семантики все еще сильны, и вместо целостного образа слова предлагается определение его «главного значения», то есть, того, в котором оно чаще всего и общепринятым образом употребляется. Так что и толковые словари, даже новейшего поколения, оказываются «кривоваты». Здоровое недоверие к словарям, о котором я уже говорил раньше, показано. Это именно то, что прописал доктор Щерба.
Окончание в сл. части (6).
④ ←
1) Мне могут возразить, – а раз могут, то наверняка возразят, – что перечисленные различия относятся к уровню словосочетания, а не к уровню слова. Забегая вперед паровоза, отмечу все же, что различия в сочетаемостных привычках чужого слова и своего вряд ли случайны. Они обусловлены какими-то, пусть очень тонкими, различиями в их концептах.
2) В.Н. Комиссаров. Теория перевода (лингвистические аспекты). М.: Высшая школа, 1990. ИЯ = исходный язык, ПЯ = переводящий язык.
3) Ср. с утверждением другого известного переводоведа: «[В]ыбор зафиксированного в словаре языкового эквивалента возможен лишь потенциально. Реализация этой потенциальной возможности определяется контекстуальным окружением и нормами построения текста. Нередко словарный эквивалент “срабатывает” лишь как индикатор дальнейшего поиска нужного соответствия.” [выделено мной – Е.Р.] – А.Д. Швейцер. Эквивалентность и адекватность перевода // Тетради переводчика, вып. 23 [ред. Л. С. Бархударов], 1989.
4) Л.В. Щерба. Опыт общей теории лексикографии. М.: ИАНСЛЯ 1940, № 43. В этой блистательной статье, актуальной и по сей день, содержится и призыв, обусловленный неспособностью традиционного двуязычного словаря схваттить идею чужого слова, «как можно скорее бросать переводные словари и переходить на толковый словарь данного иностранного языка. Таким образом, переводный словарь оказывается полезным разве только для начинающих изучать иностранный язык.»

В сочетании дом культуры дом – это не зрелищное помещение, заполненное публикой, а дом в собственном смысле слова, ‘дом для культурных мероприятий’.