Переводить или редактировать?
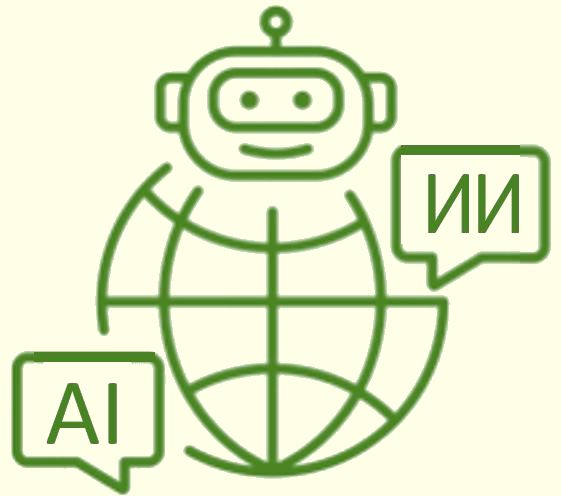
Прежде я уже разбирал машинные переводы и писал о том, как развитие ИИ меняет – уже изменило – характер переводческой профессии, превращая переводчика в постредактора [1]. Главный мой тезис состоял в том, что нейросеть, неплохо справляясь с предметным содержанием текста, испытывает серьезные затруднения с «пониманием» прагматики. У робота есть сенсоры, но нет органов чувств, есть…