- Переводить или редактировать?
- Слово о словах: нажить
- Слово о словах:
- Еще о weird
- How strange is weird?
- Слово о словах: БУЛЛИНГ, МОББИНГ, ТРАВЛЯ
- И не кончается игра …
- О само- и постредактировании
- Тень первой бороды
или О РЕДАКТИРОВАНИИ ПЕРЕВОДОВ | ч. 3 - Тень первой бороды
или О РЕДАКТИРОВАНИИ ПЕРЕВОДОВ | ч. 2
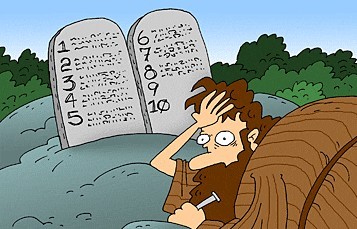
Скрижали переводчика
Переводи не слова, а смысл.
Смысл не равен значению. Он не сводится к прямому и буквальному содержанию, а производен от всех прагматических параметров речевого акта и обитает в оговариваемой ситуации.
Переводить или редактировать?

Прежде я уже разбирал машинные переводы и писал о том, как развитие ИИ меняет – уже изменило – характер переводческой профессии, превращая переводчика в постредактора [1].  Главный мой тезис состоял в том, что нейросеть, неплохо справляясь с предметным содержанием текста, испытывает серьезные затруднения с «пониманием» прагматики. У робота есть сенсоры, но нет органов чувств, есть способность распознавать и воспроизводить паттерны, но нет самосознания. Не обладая эмоциональным и телесным опытом, он может вычислить, что ему больно или приятно, но не может испытывать боль или удовольствие. Поэтому он далеко не всегда может воспроизвести прагматически обусловленный смысл текста. И ровно поэтому он не заменяет переводчика-человека. Во всяком случае, когда этот смысл не тривиален, то есть при переводе текстов, отмеченных авторским своеобразием.
Главный мой тезис состоял в том, что нейросеть, неплохо справляясь с предметным содержанием текста, испытывает серьезные затруднения с «пониманием» прагматики. У робота есть сенсоры, но нет органов чувств, есть способность распознавать и воспроизводить паттерны, но нет самосознания. Не обладая эмоциональным и телесным опытом, он может вычислить, что ему больно или приятно, но не может испытывать боль или удовольствие. Поэтому он далеко не всегда может воспроизвести прагматически обусловленный смысл текста. И ровно поэтому он не заменяет переводчика-человека. Во всяком случае, когда этот смысл не тривиален, то есть при переводе текстов, отмеченных авторским своеобразием.
Слово о словах: нажить

О непродуктивности словарей
В толковых словарях русского языка этому глаголу приписываются три значения: 1. приобрести что‑л. желаемое, 2. получить что‑л. нежелательное и вредное, и 3. протянуть еще сколько-то лет (только сов.). Обычно это выглядит так:
Слово о словах:

В 4‑е издание моего шведско-русского словаря-справочника Samhällsordbok попросился вот этот словомонстр из жаргона службы занятости. Смысл его при ближайшем рассмотрении понятен даже без обращения к Интеллекту: это зона, в пределах которой, по нормам службы, можно ежедневно ездить на работу и обратно. Стало быть, если вам на бирже труда предлагают работу в этих географических пределах, то вы не должны отказываться, не то вас могут лишить пособия.
Еще о weird

Сентябрь 2024
These guys are creepy, and, yes, just weird as hell.
Из речи Тима Уолца на предвыборном ралли в Филадельфии о Трампе и его оруженосце Вэнсе
“Эти парни жуткие, и, да, просто чертовски странные.” —
Так эту фразу многократно цитировали в российских СМИ. Однако передача эпитета weird прилагательным странный должна вызывать недоумение. Во всяком случае, у того, кто знает, что это словцо тут же прилипло к Трампу. Непонятно, что такого в слове со значением ‘странный’, что могло бы ухватить Трампа за самое его существо и стать виральным. Ну, а тех, кто об этом не осведомлен, такой перевод просто обманывает.
How strange is weird?

Август 2024
Не так чтоб очень.
Почему именно это словечко прилипло к Трампу, а не, скажем, bizarre, grotesque, freaky или queer? Потому что эти слова скорее оскорбительны, чем ироничны. Рациональные аргументы – факты и здравый смысл – против этого персонажа не работают. Но и оскорблять его, в его же гопнической манере, не престало. А нужно снять с булли доспехи, чтобы все видели, как он нелеп. Поэтому weird.
Слово о словах: БУЛЛИНГ, МОББИНГ, ТРАВЛЯ
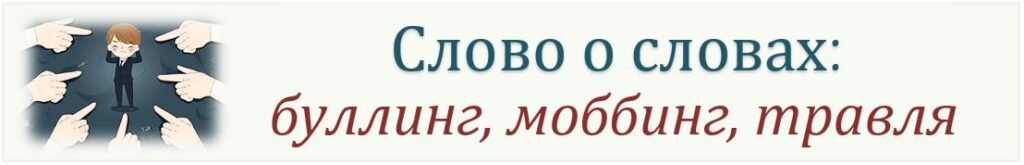
Различение так называемых синонимов – одна из центральных проблем перевода и лексикографии, обучения языку, и абсолютно центральная в теории языка. Тезис об уникальности концептов, символизируемых единицами языка – NO SYNONYMS! – был убедительно заявлен Дуайтом Болинджером еще лет шестьдесят тому назад. Язык не бывает расточителен без нужды, и если в нем есть две отличающиеся друг от друга формы, то каждая из них обладает своей уникальной спецификой. Даже если их условия истинности, т.е. необходимые и достаточные признаки ситуаций, к которым их можно отнести, практически неотличимы. Языковые формы содержательны, и их содержание уникально. Оно-то и подлежит выявлению.
И не кончается игра …
«Я стараюсь не вкладывать идеи и послания в [свои] книги.» ↓
Из интервью Дж. Р.Р. Мартина
на Петербургской фантастической ассамблее
в 2017 году.
Эта статья – попытка ответить на вопрос о природе феноменального успеха цикла «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Этот феномен занимал и продолжает занимать многих, но ни одно из известных мне объяснений не удовлетворяет меня  вполне. Подозрительна и сама постановка вопроса. Рядовой читатель, увлекающийся фэнтези и, собственно, создавший Мартину широкую популярность, вряд ли рефлектирует по этому поводу: ему довольно и вау-эффекта. Другое дело «серьезная критика». Смущенная собственным академическим снобизмом, не позволяющим ей признавать за массовой литературой культурной полноценности, она, вместе с тем, не смеет отказать прозе Мартина в художественном достоинстве.
вполне. Подозрительна и сама постановка вопроса. Рядовой читатель, увлекающийся фэнтези и, собственно, создавший Мартину широкую популярность, вряд ли рефлектирует по этому поводу: ему довольно и вау-эффекта. Другое дело «серьезная критика». Смущенная собственным академическим снобизмом, не позволяющим ей признавать за массовой литературой культурной полноценности, она, вместе с тем, не смеет отказать прозе Мартина в художественном достоинстве.
О само- и постредактировании
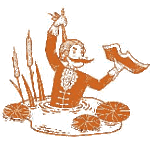 Это чем-то напоминает попрание знаменитым бароном законов физики. Взяв за точку опоры самого себя, он может лишь выдрать себе клок волос, но из болота не выберется. Вот и переводчик, принимаясь за редактирование своего текста, должен дистанцироваться от самого себя. Если он не сможет отнестись к своему тексту как к чужому, то в саморедакторы он не годится. Вот, собственно, и весь секрет. Во всевозможных пособиях он преподносится в виде полезного совета: дай своему переводу отлежаться, и тогда ты сможешь взглянуть на него незамыленным взглядом. Сплошь чудодейственные метафоры. В остальном проповедуется все то же, что и в отношении редактирования чужого текста: ты должен быть бдителен, ты должен «научиться видеть» (вариант: «смотреть критическим глазом», а при саморедактировании – «быть самокритичным»), ты должен обращать внимание на то-то и то-то (много чего!), ты не должен недо- или перередактировать, и т.д. и т.п. – и ни слова о методе. Ничего о том, в чем же все-таки специфика саморедактирования, связанная с тем, что автор этого перевода – ты сам; ничего о том, как именно избавиться от авторской зашоренности в отношении к своему тексту (кроме как засунуть его на время под матрас) и тем самым встать на позицию получателя перевода.
Это чем-то напоминает попрание знаменитым бароном законов физики. Взяв за точку опоры самого себя, он может лишь выдрать себе клок волос, но из болота не выберется. Вот и переводчик, принимаясь за редактирование своего текста, должен дистанцироваться от самого себя. Если он не сможет отнестись к своему тексту как к чужому, то в саморедакторы он не годится. Вот, собственно, и весь секрет. Во всевозможных пособиях он преподносится в виде полезного совета: дай своему переводу отлежаться, и тогда ты сможешь взглянуть на него незамыленным взглядом. Сплошь чудодейственные метафоры. В остальном проповедуется все то же, что и в отношении редактирования чужого текста: ты должен быть бдителен, ты должен «научиться видеть» (вариант: «смотреть критическим глазом», а при саморедактировании – «быть самокритичным»), ты должен обращать внимание на то-то и то-то (много чего!), ты не должен недо- или перередактировать, и т.д. и т.п. – и ни слова о методе. Ничего о том, в чем же все-таки специфика саморедактирования, связанная с тем, что автор этого перевода – ты сам; ничего о том, как именно избавиться от авторской зашоренности в отношении к своему тексту (кроме как засунуть его на время под матрас) и тем самым встать на позицию получателя перевода.
Тень первой бороды
или О РЕДАКТИРОВАНИИ ПЕРЕВОДОВ | ч. 3
или О РЕДАКТИРОВАНИИ ПЕРЕВОДОВ | ч. 3
- Следы остаются. О когнитивном подходе к редактированию переводов
- От смысла и связности. Ключевые понятия
- Смысл
- Прагматика
- Связность
- Очевидные и неочевидные переводческие ошибки
- Вкусовая правка
- Пристальное чтение
- К чему все это? Редактору нужен метод, а не методичка
По замыслу это должна была быть третья и последняя статья на тему подзаголовка, но увы! Уже сейчас видно, что для разговора о саморедактировании и об актуальном ныне (и присно) т.н. постредактировании машинного перевода понадобится еще одна статья (
Тень первой бороды
или О РЕДАКТИРОВАНИИ ПЕРЕВОДОВ | ч. 2
или О РЕДАКТИРОВАНИИ ПЕРЕВОДОВ | ч. 2
В предыдущей статье об официальном переводе «Игры престолов», первой книги цикла «Песнь огня и пламени» Дж. Мартина, я пришел к заключению, что редактора у этого перевода не было. Приведу еще несколько примеров, опять-таки взятых без отбора с пристрастием, просто по ходу чтения, показывающих, что его и не могло быть. Редактировать перевод с такой плотностью ошибок и неточностей просто не имет смысла.


